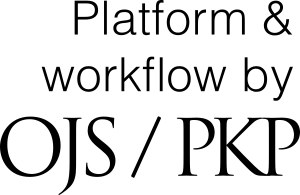О Валерии Подороге: Размышляя о годах нашей дружбы
Ключевые слова:
антропограмма, эстетический авангард, кинематографическое восприятие, лаборатория философии, лингвистическое восприятие, машинный мимесис, восприятие масс, философская антропология, философия как образ, политическое видение, революция и аффект, чувственная онтология, солидарность через визуальностьАннотация
Данная работа посвящена Валерию Подороге, которого я узнала в годы перехода России из советской в постсоветскую. Подробности счастливой случайности нашей встречи в Москве в 1987 году, когда нас объединил интерес к раннему кинематографу Эйзенштейна и Вертова и убежденность в том, что чувственный опыт, как эстетика в общем смысле этого слова, является исходным моментом философствования, я подробно описала в своей книге «Мир грез и катастрофа» (2000). Подорога перевел эту технику восприятия образами в совершенно оригинальный философский метод чтения литературы. В «Мимесисе», его opus magnum, размышление над произведениями Гоголя, Достоевского, Платонова и др. проводится через анализ чувственной ткани этих тестов для того, чтобы телесно ощутить преходящие миры, которые ими создаются. Подорога читает Платонова как отражение стремительной индустриализации и коллективизации эпохи высокого сталинизма, своего рода миметический ответ, который ведет к «деантропологизации» опыта. В «Мимесисе» прослеживается, как процесс слома литературных форм достигает кульминации в революционном сознании авангарда. Отношение Подороги в Марксу, который был значимой фигурой в его детстве, отличается от его предшественников (Лукача, Лифшица и др.), оно ближе к предложенному Деррида прочтению «призраков» Маркса. Новый «гламурный» марксизм молодого поколения (в лице редакторов журнала «Стазис») выглядел для него слишком комфортным и буржуазным, равенство при социализме, предупреждает он, было равенством в бедности. Подорога рассматривает индивида в качестве единственно возможного философского субъекта. Идея свободы оставалась для него связанной с внутренним опытом, через который он прошел в последние советские годы, когда перед ним открылся архив западных книг и обнаружилась возможность своеобразного «праздника знаний». Это приватная внутренняя свобода чтения и мышления стала для него своего рода утопией. Однако этот опыт свободы был исключительно индивидуальным поиском. Размышляя над годами нашей дружбы в 1987–2016 годах, я задаюсь вопросом, не требует ли феноменологический опыт свободы, напротив, публичных действий сопротивления?